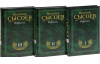Сегодня в Хабаровском крае отмечают 110-летие со дня рождения общественного деятеля, почётного гражданина Хабаровска Всеволода Петровича Сысоева. Он прожил счастливую жизнь, которую начинал как охотник, а стал писателем, чья биография занесена в Британскую энциклопедию выдающихся людей планеты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Встречался с сильными и мужественными людьми. Ничто не может сравниться с тем, что я испытал, когда связывал лапы молодой тигрице. В них не было злобы – гордое сознание своей силы!», - написал Всеволод Петрович Сысоев в предисловии к одной из своих книг.
Если сложить все, что Сысоев объездил и обошел пешком, то получится тропа вокруг земного шара.
Существует мнение, будто хорошая детская книжка обязательно должна быть хороша и для взрослых. На самом деле бывает по-разному. Есть книги, которыми восхищаются в детстве, но взрослому их прочитать невозможно. Есть книги, которые навсегда остаются детскими, но мы читаем их с удовольствием. И есть книги, которые перестают быть детскими, когда мы сами взрослеем, - они живут, и возраст их меняется, как у всякого живого существа. Если сложить все, что Сысоев объездил и обошел пешком, то получится тропа вокруг земного шара.
Когда-то в детстве попала мне в руки книга Всеволода Сысоева «Удивительные звери». Это была любовь с первой строчки. Раз и навсегда. После «Золотой Ригмы» я прочитал «Амурские звероловы», «Хозяин Малого Хингана» - с тех пор моим любимейшим писателем стал Всеволод Сысоев. Я тогда не знал, жив он или нет, где он живет, рядом или на другом конце света. Он не мог быть близко, он был, как всякий охотник, где-то в неведомом краю. А еще в книжке были замечательные рисунки: на одном из них был изображен писатель - кряжистый охотник с бородой и ружьем.
...Сейчас обещают усиление ветра и налипание снега на провода. А я перечитываю Сысоева. Читаю, как всегда, понемногу, чтобы на подольше хватило. Но вижу - тает, тает книга. И почему так обидно от этого таяния, тихого убывания страниц? Книга Сысоева, будто заглянул в печку горящую. Этот внутренний жар в холодных снегах, где он был на краю жизни и смерти.
Прошли годы, когда я увидел Всеволода Петровича Сысоева. Оказалось, что живет писатель в Хабаровске, на улице Фрунзе. «Найти меня не трудно», - сообщил голос с хрипотцой по телефону. Эта встреча осталась в памяти на всю жизнь. И сама обстановка этого разговора, кабинет писателя тоже остались в памяти как что-то необычное. Квартира, больше похожая на охотничью избу, повсюду книги с авторскими надписями Окладникова, Ганзелки, Зикмунда и других. В экспозиции представлены личные вещи и фотографии знаменитого учёного и писателя
12 ноября 2021, 11:41 0
Сомневаюсь, что среди этого библиофильского изобилия нашлась хотя бы одна книга, не прочитанная с карандашом в руках. Взгляд впитывал детали: заваленный рукописями, папками стол, фотографии, картины.
Запомнилась одна из них: в зимнем лесу охотник сидит верхом на тигре, обхватив зверя голыми руками. Сначала я подумал, что это сам Сысоев - окладистая борода и суровый облик были похожи, но на картине Иван Богачев - легендарный тигролов.
«Пётр Сысоев - не мой отец!»
Не «лежит» душа моя, чтобы сухими биографическими строками обозначить мою любовь к нему. Мне хочется рассказать о живом Сысоеве. О его походке, как он ступал прямо на носок, не дожидаясь, пока каблук коснется земли, весь устремленный в будущее.
Лучше просто как бы дать возможность самому Сысоеву рассказать о себе.
Большую часть своих книг Всеволод Петрович не писал, а надиктовывал дочери Ольге; год за годом терял зрение, и ему оставалось надеяться лишь на память сердца. Сегодня мы узнаем, что мать Сысоева была «кухаркой», хотя происходила из обедневшего польского дворянского рода. Отчим – рабочий железнодорожных мастерских. «Петр Сысоев, чье имя я ношу, - не мой отец. Это отчим. Моим, как теперь говорят, биологическим отцом был дворянин по фамилии Иевлев», - признался он Ольге Всеволодовне незадолго до смерти.
«Детство папы проходило в Смоленске у тетушки – княжны, - вспоминает Ольга Сысоева. - Воспитывался он как барин, ему рано подарили лошадь, на которой он ездил верхом с четырех лет, а в двенадцать он получил в подарок настоящее охотничье ружье. Умение обращаться с лошадьми и оружием много раз спасало ему жизнь.
Каким мальчишкой был Сева? Да сорванцом, причем заводилой. Он целыми днями пропадал на берегу моря, купался до посинения. Нырял и плавал он замечательно. Любил опуститься на дно и открытыми глазами рассматривать подводный мир. Еще научился мастерски ловить крабов. Никто не мог сравниться с ним в этом.
В школе он учился без особых успехов, а с русским языком вообще были проблемы. Ежегодно летом он занимался с репетитором, чтобы не стать второгодником. А после седьмого класса он наотрез отказался возвращаться в школу. Мама вынуждена была определить сына учеником к знакомому слесарю-сантехнику, так что трудовую жизнь Всеволод Сысоев начал довольно рано. И навыки этой профессии сохранил на всю жизнь: когда мы стали жить в благоустроенном доме, всю нашу сантехнику папа приводил в порядок сам.
Ну а что касается русского языка, то с грамматикой папа не дружил, писал с ошибками. Объяснял это тем, что в детстве ему пришлось осваивать несколько языков: у тетушки на Смоленщине он овладел польским, а когда переехал в Ялту, то в школе кроме русского учил и татарский. А украинский освоил, когда с матерью бежали от голода в Крыму и пешком прошли всю Украину до Харькова. Передвигались от села к селу, останавливались, нанимались на работу и, набравшись сил, продолжали путь. Вышли из дома в Ялте ранней весной, а прибыли в Долголятку под Смоленском поздней осенью. И хотя в детстве папа много читал, грамматикой русского так и не овладел. Но зато в совершенстве овладел устной русской речью. Каким потрясающим рассказчиком он был!
Позже мне довелось работать с отцом в Хабаровском краеведческом музее. Когда он вел экскурсию по музею, посетители слушали его, разинув рты».
«Если уж арестовывать, то и меня…» Каким мальчишкой был Сева? Да сорванцом, причем заводилой. Он целыми днями пропадал на берегу моря, купался до посинения. Нырял и плавал он замечательно. Любил опуститься на дно и открытыми глазами рассматривать подводный мир. Еще научился мастерски ловить крабов. Никто не мог сравниться с ним в этом.
В школе он учился без особых успехов, а с русским языком вообще были проблемы. Ежегодно летом он занимался с репетитором, чтобы не стать второгодником. А после седьмого класса он наотрез отказался возвращаться в школу. Мама вынуждена была определить сына учеником к знакомому слесарю-сантехнику, так что трудовую жизнь Всеволод Сысоев начал довольно рано. И навыки этой профессии сохранил на всю жизнь: когда мы стали жить в благоустроенном доме, всю нашу сантехнику папа приводил в порядок сам.
Ну а что касается русского языка, то с грамматикой папа не дружил, писал с ошибками. Объяснял это тем, что в детстве ему пришлось осваивать несколько языков: у тетушки на Смоленщине он овладел польским, а когда переехал в Ялту, то в школе кроме русского учил и татарский. А украинский освоил, когда с матерью бежали от голода в Крыму и пешком прошли всю Украину до Харькова. Передвигались от села к селу, останавливались, нанимались на работу и, набравшись сил, продолжали путь. Вышли из дома в Ялте ранней весной, а прибыли в Долголятку под Смоленском поздней осенью. И хотя в детстве папа много читал, грамматикой русского так и не овладел. Но зато в совершенстве овладел устной русской речью. Каким потрясающим рассказчиком он был!
Позже мне довелось работать с отцом в Хабаровском краеведческом музее. Когда он вел экскурсию по музею, посетители слушали его, разинув рты».
В детстве Сысоев мечтал стать кавалеристом. Ведь его дядя был директором конезавода на Смоленщине.
«Когда он с мамой перебрался в Крым, и его стихией стало Черное море, стал мечтать о морских путешествиях, - продолжает Ольга Сысоева. - После школы пытался поступить в Одесское мореходное училище, но не был принят. Была еще одна попытка связать свою судьбу с морем - поступить в Ленинградскую школу водолазов, но и тут сорвалось: когда папа прибыл в школу, набор уже завершился. Он не расстроился. Вспомнил, что на Смоленщине живет его вторая мама.
К этому времени на селе создавались колхозы, ликбезы. Позже, уже в преклонном возрасте, он удивлялся, как местные власти доверяли ему, совсем молодому парню, такое серьезное дело, как агитация за вступление в колхоз. И он справлялся, своей искренностью подкупал крестьян, и они верили ему. А когда началось раскулачивание и коснулось непосредственно его дядюшки, папа в полном недоумении не знал, что и сказать. К счастью, крестьяне отстояли свой конезавод, и дядя остался его директором.
Он задумался о профессии. Вернулся на работу в Курорттрест слесарем, поступил на курсы подготовки для поступления в вуз, потому что решил стать инженером. Его заметили коммунисты Ялты и порекомендовали возглавить молодежную организацию. Так он стал первым секретарем горкома комсомола. Время было тревожное, через Ялту шел поток контрабанды, комсомольцы ловили «уголовный элемент».
После окончания курсов отец в 1932 году отправился в Москву поступать в Бауманку (Московское высшее техническое училище им. Баумана. - Прим. авт.). Правда, Бауманка его разочаровала. Вот почему папа перешел в Институт пушно-мехового хозяйства. Причиной тому стала его охотничья страсть. Учился он с упоением, был лучшим студентом, получая благодарности от преподавателей и повышенную стипендию за успехи в учебе. К этому времени на селе создавались колхозы, ликбезы. Позже, уже в преклонном возрасте, он удивлялся, как местные власти доверяли ему, совсем молодому парню, такое серьезное дело, как агитация за вступление в колхоз. И он справлялся, своей искренностью подкупал крестьян, и они верили ему. А когда началось раскулачивание и коснулось непосредственно его дядюшки, папа в полном недоумении не знал, что и сказать. К счастью, крестьяне отстояли свой конезавод, и дядя остался его директором.
Он задумался о профессии. Вернулся на работу в Курорттрест слесарем, поступил на курсы подготовки для поступления в вуз, потому что решил стать инженером. Его заметили коммунисты Ялты и порекомендовали возглавить молодежную организацию. Так он стал первым секретарем горкома комсомола. Время было тревожное, через Ялту шел поток контрабанды, комсомольцы ловили «уголовный элемент».
Студенческие годы Всеволода Сысоева пришлись на время репрессий. На последнем курсе отец проходил практику в экспедиции по Архангельской области. Нависла угроза ареста начальника экспедиции, человека честного. Папа так возмутился несправедливостью, что написал письмо Сталину: «Если уж арестовывать, то и меня…».
Было еще одно письмо Сталину. Став охотинспектором, он много разъезжал по краю и видел, как плохо вооружены охотники. Тогда он обратился к Сталину: «Мне стыдно, что мы победили в такой войне, так прекрасно вооружили нашу армию, а охотники идут в лес с ружьями образца прошлого века…».
Вскоре его вызвали в спецотдел и дали прочитать и расписаться в получении ответного письма, в котором сообщалось, что на вооружение дальневосточных охотников выделяется несколько тысяч карабинов».
«Соболя то? Да что мышей!»
Когда он говорил о природе, невозможно было рыться в телефоне, спать, скучать, смотреть на часы. Время останавливалось. Хотелось запоминать, цитировать, записывать. Говорил он удивительно: очень точно, подмечая детали. Меня поразило, что Сысоев кабанов называл «людьми». Я спросил его об этом, он сослался на Дерсу: «Его всё равно - только рубашка другой. Всё равно - люди…».
Сысоев среди охотников буквально почитался за святого. Однажды его спросили: «Что является главным делом вашей жизни?». Ответ был неожиданный: «В 1939 году я завез в край норку и ондатру. Расселились звери, прижились. И теперь думают, что так было всегда. Наверное, в этом есть моя заслуга. И еще в том, что я создал первый в СССР соболиный рассадник, который за семь лет дал 4200 соболей. Бобра завез, и он прижился. Я открывал зверосовхозы. Их было десять в Хабаровском крае. Я счастлив тем, что спас от полного истребления длинношерстного тигра, защитил калана и лебедя. Сегодня их занесли в Красную книгу».
Вернемся к запискам Ольги Сысоевой. «К соболю у моего отца было особое отношение. «Соболь просится в руки человека!» - слышала я от отца. Помню, как привозили в подвал клетки с соболями, мы бегали смотреть на них. Зверьки были очень симпатичны. Потом клетки увозили в аэропорт, откуда самолётом развозили по всему краю. Всю зиму продолжалась эта работа: встречали одну партию соболей, провожали другую.
О бренде Хабаровского края рассказали в сказочной форме на весь мир
03 мая 2018, 17:30 0
Довелось мне в 1990 году участвовать в музейной экспедиции на реке Мае. В одном из сёл мы беседовали с женщиной-охотницей. Она в сердцах корила соболя: «Стало так много соболей, что совсем исчезла белка!».
В другой раз мы с отцом услышали от промысловика из посёлка Медвежий:
- На кого охотитесь?
- Да на соболя, конечно.
- А много ль его в лесу?
- Соболя то? Да что мышей!
Отец вспоминал, как трудно шли работы по расселению соболей. Многие не верили в успех дела, считали, что затраты не окупятся, что лучше запретить охоту на соболя и смириться с тем, что он исчезает. Сокрушался, что закрыли соболиный рассадник, что не дали довести до конца дело по их клеточному разведению. А ведь рассадник дважды был участником ВДНХ в Москве.
Прибывших из Белоруссии первых 60 бобров отец сам лично грузил на катер, вывозил на реку Немпту и выпускал».
«А мне зачтётся там, на небесах...»
«Во время войны Сысоев не только остался жив, но даже не был ранен. И хотя ему не довелось попасть на западный фронт, в Маньчжурии он прочувствовал в полной мере, что такое война. Позже сказал: «А мне зачтется там, на небесах, что на войне я не только не убил ни одного человека, но спас от смерти несколько сотен людей».
Сысоев имел броню, его не должны были призывать в армию. Но он считал, что защищать Отечество от врагов - святое дело мужчины. Мало того, сразу стал готовить себя к отправке на фронт, на Запад. Но его направляли на разные виды учебы: в войска химзащиты, на интендантские и офицерские курсы. Он просился на фронт, а его командировали сначала в батальон связи, который стоял в Озерной Пади в Приморье, потом перевели в медсанбат, в составе которого он воевал в Маньчжурии.
Медсанбат не принимал участия в боях, но случались моменты, когда отец чувствовал дыхание смерти, что называется, в затылок. Однажды мама получила от него письмо: «Если такие бои будут длиться еще несколько дней, от нашего медсанбата не останется ни одного человека».
Доброту Сысоев называл «подельчивостью». Хлебосольство у него было в крови. Сам он был удивительно «подельчивым» человеком. Кто только не захаживал к нам на Фрунзе, о ком только не хлопотал отец.
Помню, как зимой приходили к нам папины друзья-охотники. Скромные, немногословные. Расходились поздно, а утром я просыпалась от шагов. Папа уже одет по лесному: короткая солдатская шинель, на ногах - мягкие ичиги из лосиной кожи, на голове - простая шапка. За спиной - рюкзак и ружьё в чехле. Расстаёмся на месяц.
Но вот я опять просыпаюсь от шума. Вернулся отец! У меня от радости перехватывает дыхание. Затаскиваются туши кабанов, медведей. Комната наполняется запахами дыма, леса, мороза. Папа достает «лисичкин хлеб», орешки, нет ничего вкуснее этих нехитрых гостинцев!
Туши зверей оттаивали, с них снимали шкуры, разделывали на куски, раскладывали по мешочкам и свёрткам. А дальше начиналась моя работа: разнести по многочисленным адресам папиных друзей и знакомых гостинцы к Новому году. Куски мяса, которые оставлялись на питание семьи, переносились в сарай и перекладывались снегом в больших ящиках из под ружей.
Когда папа уже не мог охотиться, он ездил на зимнюю рыбалку в Мариинское. Щук и сигов привозил мешками, и опять, как в детстве, я разносила гостинцы людям».
Как Сысоев стал Хабаровым
А еще Сысоев был деканом географического факультета Хабаровского пединститута. Он изменил географию полевых практик студентов. До него студенческие отчёты пылились в шкафах. Сысоев направлял студентов в районы края, а отчеты ложились в основу справочников. Первым был обследован Кур-Урмийский район.
Довелось ему инспектировать нерестилища кеты, будучи сотрудником «Амуррыбвода». Всего одна экспедиция дала материал для книги «Светлые струи Амгуни» и потрясающего рассказа «Ход до смерти».
Двенадцать лет жизни Сысоев отдал Хабаровскому краеведческому музею.
- Музею я обязана сближению с отцом, потому что в 1965 году он попросил меня возглавить созданный им отдел природы, - говорит Ольга Сысоева.
При нем музей удостоился звания «Лучший музей РСФСР». Экспонатом номер один сегодня является берлога гималайского медведя с её обитателем. Многие годы отец искал подходящую берлогу. Наконец в 1962 году она нашлась. Устроил её медведь в дупле вековой лиственницы на высоте с девятиэтажный дом. Дерево в три обхвата. Надо было повалить его так, чтобы ствол не развалился. Эту задачу выполнили лесорубы с помощью трактора и лебёдки. Потом срез дерева с берлогой вывозили из леса по бездорожью, при этом трактор увяз в болоте, трактористу пришлось заночевать в лесу. И вот теперь этот медвежий «небоскреб» стоит в музее и удивляет всех посетителей. ЭксклюзивНаш край
Автор памятника выдвинул новую версию гибели знаменитого проводника Арсеньева
16 июля 2020, 15:30 0
Выдающимся экспонатом музея отец считал панораму «Волочаевская битва». В России нет панорам, посвященных Гражданской войне. Удалась она не только потому, что писали её лучшие художники студии Грекова, а ещё и потому, что для них были созданы все условия натурного плана. Жили они весь февраль в самой Волочаевке, была организована инсценировка небольшого эпизода штурма сопки со всеми фортификационными сооружениями. В «штурме» принимали участие воины одного из подразделений Дальневосточного военного округа.
Хотите увидеть моего отца? Идите на вокзальную площадь Хабаровска, подойдите к памятнику Хабарову и смотрите. Перед вами стоит Всеволод Петрович Сысоев. «Эк занесло любящую дочь!» - скажете вы. Нет, не занесло. Ведь прообразом Хабарова стал мой отец.
А дело было так. Жил в Хабаровске скульптор - А.П. Мильчин. К столетию со дня основания города ему поручили создать памятник Хабарову. Когда Мильчин принес в крайисполком проект памятника, то работу не приняли: «Не похож Хабаров на русского казака!» - «Да портрета Хабарова нет!» - «Как нет! Есть в Хабаровске человек - это Сысоев с бородой. Вот с него и лепи!». «Рай существует не где-то, а здесь, на Земле»
Последний раз общаться с Сысоевым довелось, когда чересполосица здоровья – нездоровья у него сползла в сторону неотвязных болячек, интервью он почти никому не давал.
С третьего захода я добился-таки приглашения. Речь зашла об Окладникове. Сысоев открыл дверцы книжного шкафа, извлек книгу в бумажной обложке. А потом показал фотографию, размашистую надпись: «Другу моему дорогому Всеволоду Петровичу, поэту амурской тайги…».
Снимок этот известен: у костра сидят Сысоев с Окладниковым, о чем-то живо беседуют. Дружба эта началась в конце 50-х годов прошлого века. Вспомнил Сысоев, как в Кондоне он купил за бутылку водки берестяную оморочку. Эта нанайская оморочка была восемь метров в длину. Пришлось перегонять эту «ладью» сплавом до Комсомольска. На борт теплохода оморочку не принимали. Только сославшись на то, что она нужна для съемок фильма с участием самого Окладникова, лодку провезли до Хабаровска. Кстати, эту оморочку можно увидеть сегодня в музее.
Во время нашего последнего разговора показал Сысоев роскошное издание «Золотой Ригмы» на японском языке. С его языка слетело:
- «Море лесов» - это не плохо, только обидно за лес: море морем, а лес сам по себе не хуже, по мне, так и лучше моря!
Посетовал о том, что нельзя перевести его рассказы так, как написано, - во всей непереводимой простоте. Как нельзя перевести небо и землю: земля есть земля, небо есть небо. Поэтому миру еще предстоит открыть Сысоева. У меня сохранилась эта запись на диктофоне. Голос у Всеволода Петровича был ни на кого не похожим. Слово «старик» не шло к нему. Никаких старческих признаков – одышки, жирка на животе, ошибок памяти. Богатырская фигура, легкая походка. Он казался из тех, над кем годы пролетают, не задевая, - долгожитель.
Внезапная смерть его супруги подкосила его. Я не видел больного мужественнее Сысоева. Ни стона, ни жалобы. Вообще ни слова о беспощадно мучительном, уносившем его силы.
Брак с Екатериной Максимовной он считал самым счастливым на Земле. Он называл ее своим ангелом-хранителем, другом и спасителем. Считал, что всё лучшее, что он сделал в жизни, случилось потому, что рядом с ним была она.
К чему же он пришёл в конце своего пути? Какова квинтэссенция его наследия, которое он нам оставил?
- Рай существует не где-то, а здесь, на Земле. Я его часто вижу. Я уезжаю на дачу к себе, хожу в лес, слышу, как птицы поют, падает снег. Это же все чудеса нашей жизни. Прежде чем ругать темноту, надо зажечь свою свечку! - ответил Всеволод Петрович.
Всеволод Петрович Сысоев прожил счастливую жизнь. Начинал как охотник, а стал писателем, чья биография занесена в Британскую энциклопедию выдающихся людей планеты. А еще Сысоев - лауреат национальной премии Минина и Пожарского «Достойному гражданину - благодарная Россия». Но выше всего для него было звание Почетного гражданина Хабаровска. Вот еще один урок Сысоева - не для одних пишущих. Сколько лет Сысоев обивал пороги чиновников, пробивая идею установления монумента графу Муравьеву-Амурскому, В.К. Арсеньеву. Благодаря Сысоеву появился памятник Дерсу Узала на Хехцире, обелиск на Петровской косе в честь Амурской экспедиции Г. Невельского, а в поселке Улья Охотского района – первопроходцу И. Москвитину, мемориальная доска его любимому писателю М. Шолохову в Хабаровске. Не без его участия создан зоосад, названный его именем. В нем собрано всё самое лучшее - его любимые звери. А один из горных хребтов Сихотэ-Алиня стал Сысоевым.
И поднимая глаза от страницы, вдруг понимаешь важность всего. Вот этой точки в конце предложения. Березового листа, залетевшего на подоконник.
Сысоев называл это веяние «сквознячком». Он говорил: «Между словами должен сквознячок пробегать».
Сысоев рассказал случай, когда он зимой за сутки прошел в тайге полсотни километров с тяжелым рюкзаком за плечами, чтобы успеть к поезду - успеть сесть за новогодний стол с женой и детьми.
- Лучшие минуты жизни! – сказал он.
Что может быть на свете проще.
И как всё это хорошо!